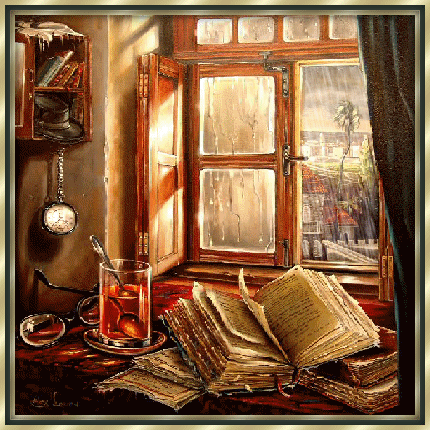19:28 Франц Кафка о жизни в своих произведениях |
Первое горе Некий воздушный гимнаст, работавший на трапеции, — известно, что это искусство, которым артисты занимаются высоко под куполом в больших театрах варьете, одно из самых трудных, какие доступны человеку, — устроил свою жизнь так, что пока он работал в одном и том же театре, то день и ночь оставался на трапеции: сначала из стремления к совершенству, потом по ставшей тиранической привычке. На все его потребности, впрочем очень небольшие, откликались сменявшие друг друга служители, дежурившие внизу и поднимавшие и опускавшие в специально сконструированных сосудах все, что требовалось наверху. Особых трудностей для окружающих этот образ жизни не создавал; только когда исполнялись другие номера программы, артист, остававшийся наверху, немного мешал — его нельзя было скрыть, и хотя в такие минуты он в основном держался спокойно, взгляды публики нет-нет да и отклонялись в его сторону. Однако дирекции театров ему это прощали, ибо он был выдающимся, незаменимым артистом. К тому же они, разумеется, понимали, что живет он так не из каприза и только таким образом может держаться в форме, только так сохранять в совершенстве свое искусство. Пребывание наверху было и вообще полезно, а в теплое время года, когда по всей окружности свода открывались боковые окна и вместе со свежим воздухом в сумрачное помещение врывалось солнце, там было даже красиво. Правда, его общение с людьми было ограничено, лишь иногда по веревочной лестнице к нему взбирался какой-нибудь коллега-гимнаст, и тогда оба они сидели на трапеции, прислонясь к тросам справа и слева, и болтали, или же рабочие чинили крышу и через открытое окно обменивались с ним несколькими словами, или пожарник проверял запасное освещение на верхней галерее и кричал ему что-нибудь почтительное, но малопонятное. В остальном вокруг него было тихо, лишь иногда какой-нибудь служащий, забредший, к примеру, после полудня в пустой театр, задумчиво всматривался в почти недоступную взгляду высоту, где артист, не зная, что за ним наблюдают, упражнялся в своем искусстве или отдыхал. Так он мог бы спокойно жить дальше, если бы не неизбежные переезды с места на место, которые были для него чрезвычайно обременительны. Правда, импресарио заботился о том, чтобы воздушный гимнаст был избавлен от излишне долгих страданий: для поездок по городу пользовались гоночными автомобилями, которые ночью или ранним утром мчались по пустынным улицам на предельной скорости, однако все же слишком медленно для нетерпения воздушного гимнаста. В поезде ему заказывали отдельное купе, где он совершал переезд в положении таком жалком, но все же несколько напоминавшем его обычный образ жизни — наверху, в сетке для багажа. В театре на месте предстоящих гастролей трапеция была наготове задолго до прибытия артиста, были также распахнуты все двери, ведущие в помещение театра, все коридоры освобождены, но все же прекраснейшими минутами жизни импресарио неизменно бывали те, когда воздушный гимнаст наконец ставил ногу на веревочную лестницу и в мгновение ока снова повисал на своей трапеции. Сколько бы поездок ни прошли для импресарио удачно, каждая новая все же была ему неприятна, так как эти поездки, не говоря уже обо всем прочем, по крайней мере для нервов воздушного гимнаста, были губительны. Однажды они опять ехали вместе, артист лежал в багажной сетке и дремал, импресарио сидел напротив, в углу у окна и читал книгу, и вдруг артист с ним заговорил. Импресарио весь обратился в слух. Гимнаст сказал, кусая губы, что отныне ему для занятий всегда будет требоваться уже не одна трапеция, а две, друг против друга. Импресарио сразу согласился. Однако артист, словно желая показать, что согласие импресарио значит столь же мало, сколь значил бы его отказ, заявил, что теперь он уже никогда и ни при каких обстоятельствах на одной трапеции работать не будет. Казалось, представление о том, что когда-нибудь это все-таки может случиться, приводит его в содрогание. Импресарио, медля и присматриваясь, еще раз изъявил свое полное согласие, — две трапеции лучше, чем одна, да и в остальном это новое устройство будет выгодно, оно придает программе разнообразие. Тут артист вдруг заплакал. Ужасно испугавшись, импресарио вскочил и спросил, что случилось, а не получив ответа, встал на диван, стал гладить артиста по голове, прижался щекой к его лицу, так что слезы артиста капали и на него. Но только после долгих расспросов и льстивых увещеваний артист, рыдая, сказал: — Цепляться за одну-единственную перекладину — разве это жизнь?! Теперь импресарио было легче успокоить артиста, он пообещал с ближайшей же станции телеграфировать в место предстоящих гастролей насчет второй трапеции, упрекал себя в том, что так долго заставлял артиста работать только на одной, благодарил и очень хвалил его за то, что он наконец указал на эту ошибку. Так импресарио удалось понемногу успокоить артиста, и он смог вернуться в свой угол. Однако сам он не успокоился; глубоко озабоченный, он исподтишка поверх книги рассматривал артиста. Уж раз того однажды стали мучить такие мысли, могут ли они когда-нибудь развеяться совсем? Разве не должны они крепнуть все более и более? Разве не опасны они для жизни? И импресарио думал, что он на самом деле видит, как детски чистый лоб артиста, который теперь, перестав плакать, казалось бы, спокойно спал, начинают бороздить первые морщины.
|
| Категорія: Життя прожити - не поле перейти... | Переглядів: 912 | | |
Головна » 2013 Сентябрь 28 » Франц Кафка о жизни в своих произведениях